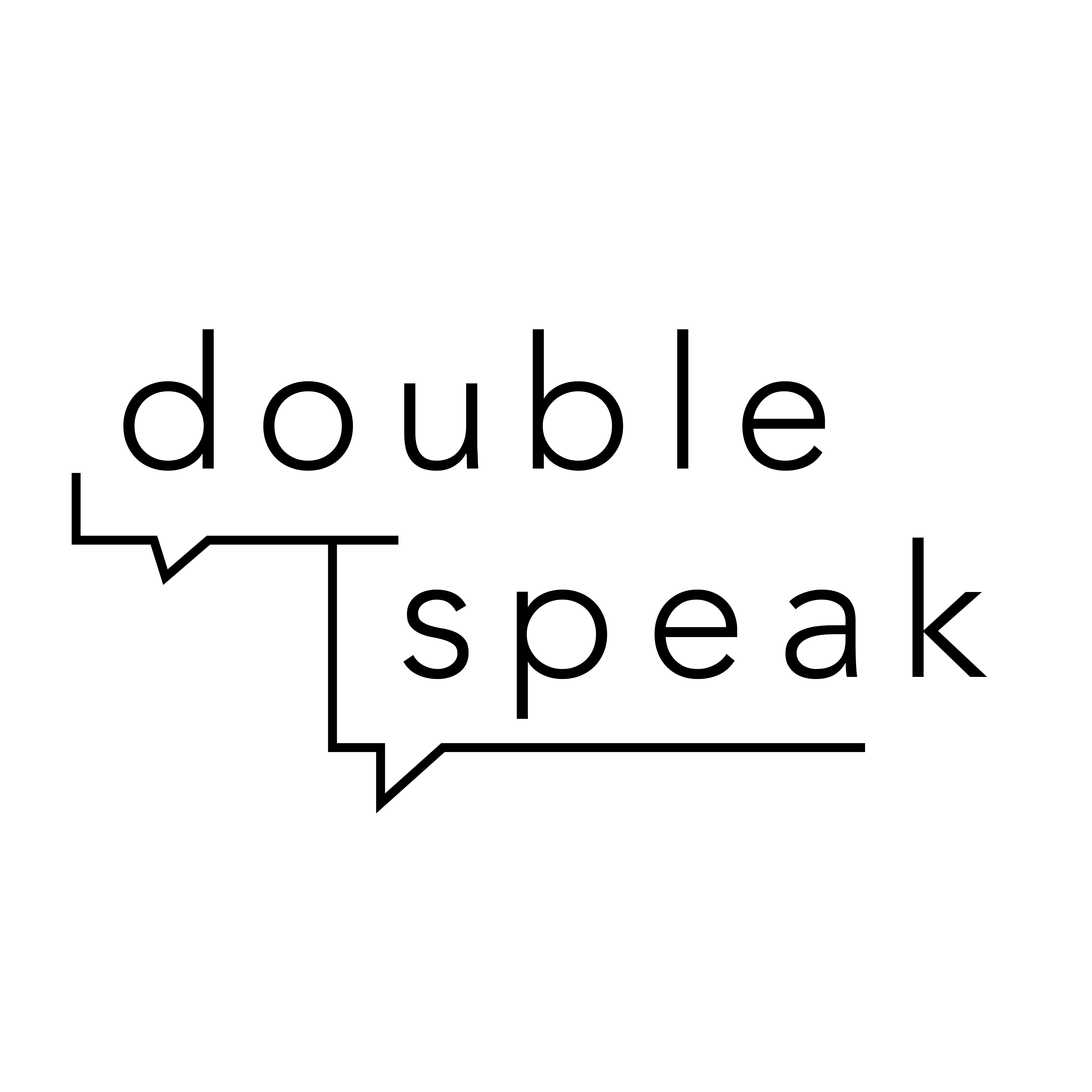
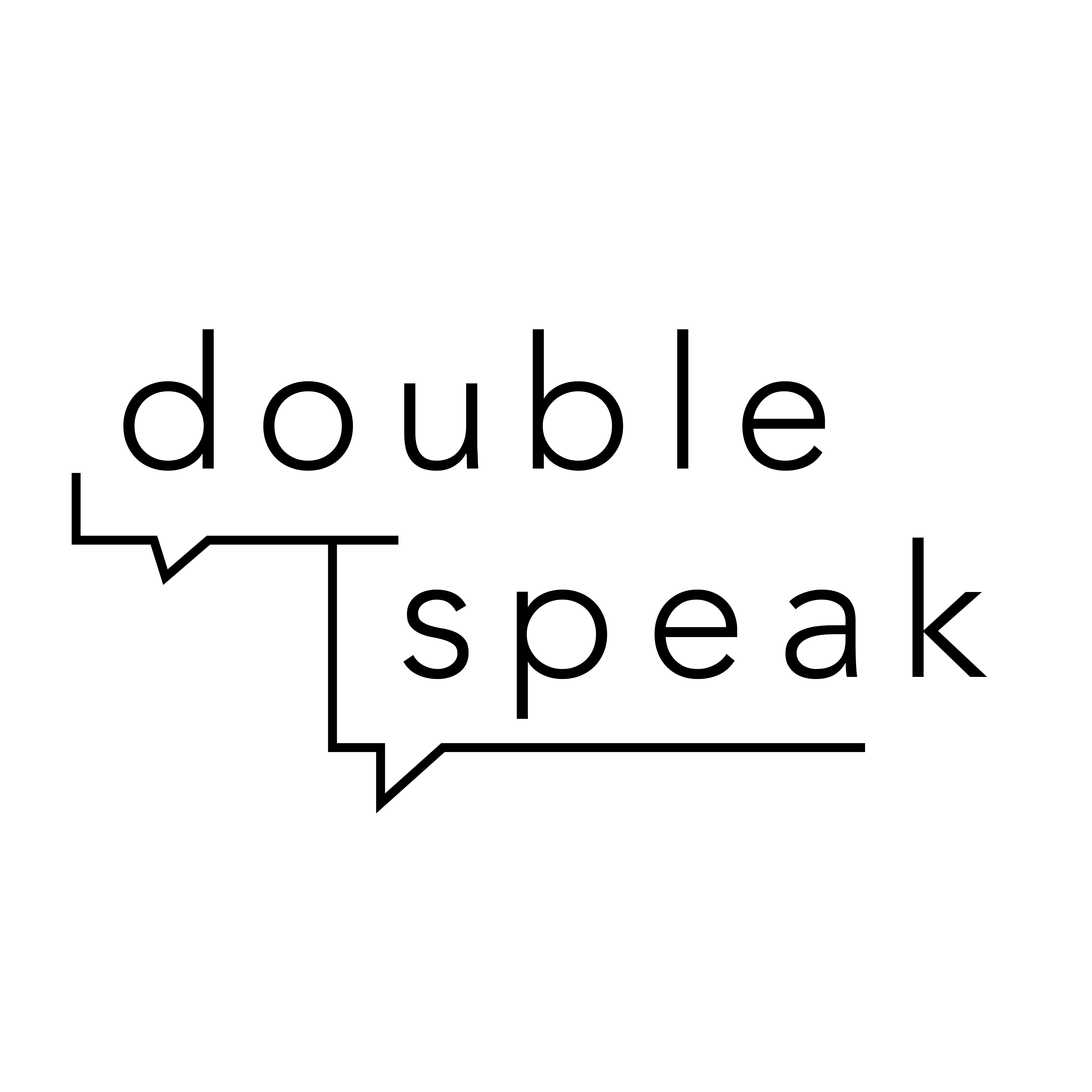
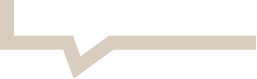
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,-
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
1961
Вместо предисловия
В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
— А это вы можете описать?
И я сказала:
— Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
1 апреля 1957, Ленинград
II
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: “Сюда прихожу, как домой.”
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
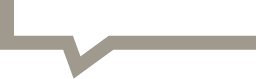
No, not foreign heaven’s shield
Protected me, nor foreign wings
I was with my people then
When my people endured suffering
1961
Instead of a Preface
In the horrid years of the Yezhov terror I spent seventeen months waiting in line outside the prison in Leningrad. One day somebody “identified” me. Then, the woman who stood behind me, whose lips were blue from the cold, and who, of course, had not known who I was, came out of the stupor in which we all were and asked me in a whisper (everyone whispered there):
“Can you describe this?”
And I said, “I can.”
Then something resembling a smile slid over that which had once been a face.
1 April 1957, Leningrad
Requiem II.
Memorial hour strikes anew.
I see and I hear and I feel all of you —
The one whom we scarcely dragged to the window to breathe,
And the one who from earth’s bounds was set free,
And that one, shaking her beautiful head,
“I come here as if to my home,” she said.
Each one, name by name, I want to recount,
But the list was torn up; there’s no place to find out.
For them, I have woven a shroud out of words,
Out of their poor words, which I overheard.
Them — I remember, all the time, in every place,
New woes cannot drive them from memory's space,
And if time clamps shut my long worn-out mouth,
Through which a hundred million people shout,
Let the people recall me in a similar way
On the eve of my own memorial day.
And if at some point, this country should see
fit to erect a statue of me,
My consent I grant to this one note of grace,
But on one condition — that it be placed
Not near the sea, where I first opened my eyes:
With the sea I have long since severed all ties,
Not in the Tsar’s garden, near that much-cherished tree,
Where an inconsolable shadow searches for me,
But here,
where for three hundred hours I stood in wait
and where they didn't unbolt the iron-barred gate.
Because even in blissful death I fear
forgetting the clamor of the Black Marias,
forgetting how that dreaded car door banged
and that old mother wailing, like a wounded hound.
And let the snow melt, in streams of tears, cries,
From the rims of my motionless, bronze-lidded eyes,
And let a prison dove coo, somewhere, far away,
And the ships sail softly by the Neva’s bay.